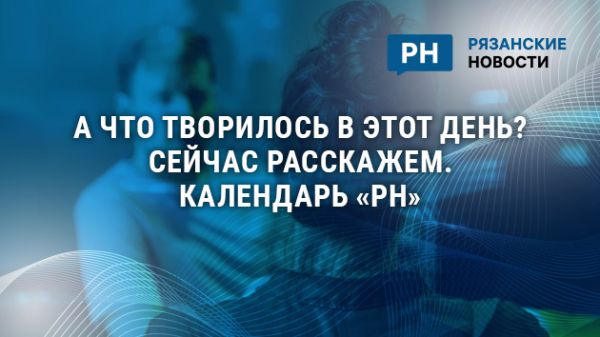Кризис - не конец: рязанский семейный психолог Любовь Лавренева рассказала, как построить и сохранить отношения
Рязанский психолог Любовь Лавренева ответила на вопросы о современной семье

© Любовь Лавренева
Современная семья меняется — исчезают привычные роли, размываются границы, на смену традиционным моделям приходят новые формы отношений. Пары всё чаще сталкиваются с кризисами, непониманием, переутомлением.
О том, какие изменения происходят в институте семьи, как сохранить эмоциональную близость, в чём причина повторяющихся сценариев и зачем обращаться к специалисту не только «когда всё плохо», СИ «Рязанские новости» рассказала семейный психолог и лектор Российского общества «Знание» — Любовь Лавренева.

— Расскажите немного о себе: чем вы занимаетесь как специалист?
— Я работаю с парами, с супружескими и семейными системами, с индивидуальными клиентами — как взрослыми, так и подростками. Индивидуальные запросы часто касаются панических атак, тревожности, депрессии, чувства апатии, утраты ориентиров. Бывает, что ко мне приходит один из партнёров — со словами «Мне плохо» и сомнениями: «Стоит ли оставаться в этих отношениях?».
Но сейчас всё чаще обращаются не для личной, а для семейной терапии.
— С какими проблемами чаще всего приходят семьи и пары?
— Супружеские запросы могут касаться измен, предательства — то есть ситуация, когда неясно, сохранять ли отношения. Ещё одна частая тема — переживание кризисов, которые пары воспринимают как конец, хотя на деле это лишь трудный этап. Важно понимать: любые отношения проходят через кризисы. Есть нормативные — рождение детей, переход к новому этапу, а есть ненормативные — потери, война, пандемия. Всё это может расшатывать семью.
— Как изменилась модель семьи за последнее столетие?
— Изменения колоссальные. Раньше преобладала патриархальная модель: мужчина — добытчик, женщина — хранительница домашнего очага. Женщины не имели доступа к образованию, не могли зарабатывать, полностью зависели от мужа и его семьи. Часто невестка буквально становилась «дочерью» свекрови, теряя связь с собственной родительской семьёй.
Прогресс и эмансипация все изменили. Тот институт семьи, который был раньше развалился. Сейчас образуется какой-то новый институт семьи и он до конца не установлен.
Женщины получили права, у них появилась возможность учиться, работать, принимать решения. Это повлияло на устои, на сам институт семьи.
Помимо этого, благодаря развитию медицины, увеличилась продолжительность жизни, смертности стало меньше. Раньше супружеская пара едва могла пройти вместе 20 лет и поднять на ноги детей, а сейчас семьи сталкиваются с кризисами, до которых раньше просто не доживали. Дети вырастают — и возникает стадия «пустого гнезда», когда супруги остаются наедине, не зная, как быть друг с другом.
Важно подчеркнуть, что помимо прочего поменялось отношение к сексу. Ранее эта тема была очень сильно табуирована, мужская сексуальность поощрялась, а женская подавлялась. Секс был допустим только в браке. С развитием медицины и появлением контрацепции это изменилось. Секс стал возможен вне брака, брак перестал быть обязательным условием для рождения и воспитания детей.
Легитимизация разводов тоже внесла вклад: раньше возможности расторгнуть брак просто не было, а теперь выйти из разрушающих отношений и попробовать снова стало нормальным. Урбанизация повлияла на структуру семей — от больших родовых семей в деревнях мы пришли к ядерной: муж, жена, дети.
— В чем плюсы и минусы таких перемен?
— Это, как и многое в жизни, двойственно. С одной стороны, раньше нужно было «терпеть» — и это сохраняло форму семьи. С другой — сейчас можно выбирать, быть с тем, кто тебе подходит. Мы больше не выживаем в семье, а стремимся к лучшему качеству жизни. Мужчины и женщины развиваются, работают, строят партнёрские отношения.
Особое значение приобрела эмоциональная близость. Если раньше в отношениях важны были роли, функции, выживание, то теперь всё чаще именно человеческое тепло, доверие, поддержка, возможность быть собой становятся главной ценностью. Эмоциональная связь — это не «дополнение» к семье, а её основа. Если она есть, пара справляется с трудностями куда легче. Если нет — отношения разрушаются, даже если внешне всё «правильно».
Статистика разводов всё-же высока. Иногда кажется, что мы не до конца усвоили идею равноправия. Формально мы говорим о равенстве, но женщина всё же чаще остаётся с детьми, на ней быт, и эта перегрузка влияет на отношения. Особенно в молодом материнстве у женщин часто возникает фрустрация: «Мы оба хотели ребёнка, но почему я одна всё тяну?».
Также изменения системы рождают новые сложности. Раньше семейные ценности поддерживались жёсткими рамками: общество, религия, традиция диктовали, как «правильно». Сейчас эти рамки претерпели существенные изменения — и у многих нет чётких ориентиров. Это свобода, но и повышенная тревожность: а как правильно? А что вообще семья? Люди всё чаще теряются в выборе, не знают, на что опереться.
— Какие признаки говорят о том, что в паре не просто усталость, а серьёзный кризис?
— Один из главных тревожных звоночков — исчезновение эротизма. Когда пропадает физическая близость, обнимашки, прикосновения, секс. Когда партнёры перестают быть добрыми друг к другу, становятся конкурентами, цепляют, обижают. Иногда пары приходят в таком кризисе, что между ними уже нет даже ссоры — просто холод, равнодушие. Это сигнал, что кризис запущен.
— Почему мы повторяем родительские сценарии, даже если хотим иначе?
— Потому что мы дети своих родителей. Первичная модель мужско-женских берется из семьи. Мы либо бессознательно повторяем то, что было в семье, либо уходим в контрсценарий: «никогда не буду, как мама и папа». Но и то, и другое — не про свободу. Здоровый путь — осознанно выбирать: что я беру из родительской семьи, а что привношу своё. Это требует рефлексии, усилий, иногда — психотерапии.
— Как человеку осознать, что в его семейной системе что-то не так?
— Сначала важно просто заметить, что в отношениях что-то идет не так. Иногда люди живут в неосознанности, и вроде всё не так, но «терпимо». Или не знают, откуда проблема. Психотерапия помогает включить осознанность: понимать себя, свои чувства, потребности.
Но самому это сделать может быть сложно — мы находимся внутри этой системы. Поэтому люди обращаются к помощи со стороны: психолог, наставник, духовник. Сейчас есть много информации — книги, вебинары, но если ситуация сложная, без специалиста не обойтись — хирурги сами себе операции не делают.
Также ко мне всё чаще приходят пары, которые ещё не вступили в брак, но хотят разобраться: что между ними происходит, готовы ли они. Мы работаем до свадьбы и в первые месяцы после — такое предбрачное консультирование очень эффективно. На этом этапе можно многое предупредить.
— А если в паре уже есть дети, как заложить для них здоровую модель семьи?
— Только своим опытом и примером. Дети впитывают то, как родители взаимодействуют, как решают конфликты, как заботятся друг о друге. Конечно, идеальных семей не бывает, но если дети видят конструктив — они вырастут с представлением о здоровых отношениях.
— Когда стоит обращаться к семейному психологу? Только при серьёзных проблемах?
— Лучше раньше, чем позже. Часто приходят уже в запущенном кризисе, когда всё плохо. Тогда работать можно, но это будет сложнее и дольше. Если вы замечаете повторяющийся паттерн, заезженную пластинку — это уже повод пойти к специалисту.
На первой консультации мы выясняем запрос каждого — потому что в паре часто желания расходятся: один хочет сохранить отношения, другой — уйти, важно прийти к общему запросу. Их может быть всего три: сохранить и восстановить отношения; исследовать и понять, что происходит; или грамотно расстаться. Последний вариант — редкий, но тоже возможный, особенно если всё уже испробовано. Также на первой консультации мы строим план и маршрут семейной терапии, понимание того, как мы будем работать облегчает отношения в паре, появляется надежда.

— А если только один партнёр готов идти к психологу? Это имеет смысл?
— Да, но нужно учитывать нюансы. Если я начинаю работать с одним партнёром, я невольно примыкаю к его взгляду. Поэтому важно, чтобы в дальнейшем пришёл и второй — и мы могли сбалансировать поле. Настоящая семейная терапия возможна только с обоими, поэтому на первую консультацию лучше приходить вместе.
— Что, на ваш взгляд, может по-настоящему сплотить семью?
— Очень многое. Эмоциональная близость, безопасность — и физическая, и финансовая. Уважение, забота, поддержка. Гэри Чепмен писал о «пяти языках любви» — это прекрасная модель: слова одобрения, подарки, прикосновения, помощь и совместное время. Если пара уделяет внимание этим ресурсам, это укрепляет отношения.
Также важны семейные ритуалы: совместные традиции, поездки, праздники, даже работа — как, например, огородно-копательные работы. И обязательно более приятные ритуалы — походы в кино, в театры, совместные поездки. Важно уделять внимание именно супружеской паре, а не только родительской функции. Когда дети вырастают, супруги остаются друг с другом, и, если между ними нет связи, пара распадается.
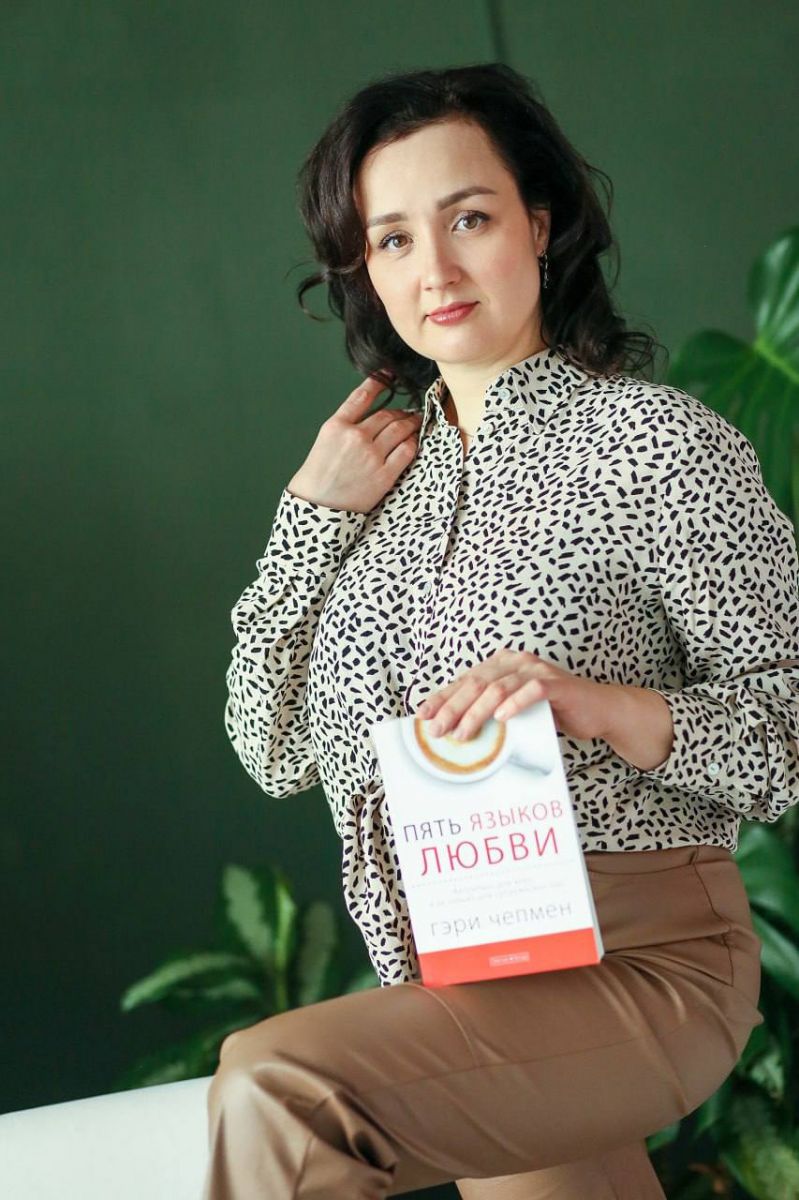
— Любовь, бывает ли, что к вам обращаются люди, которые пока не в паре, но хотят найти отношения?
— Конечно. Это очень хороший запрос — прийти к психологу не потому, что «всё рушится», а наоборот — с желанием построить здоровые отношения. Ко мне чаще с таким приходят девушки, хотя и мужчины бывают, но реже. Мы вместе исследуем, что мешает человеку вступить в отношения: какие установки, страхи или сценарии он несёт с собой.
Очень часто в основе лежит неосознанный негативный опыт — из родительской семьи или предыдущих отношений. Мы разбираемся: как человек себя транслирует в мир, почему не складывается, в чём возможные «слепые зоны», оцениваем реалистичность запросов.
— Если бы вы могли дать одну универсальную рекомендацию всем парам — что бы это было?
— Быть добрее друг к другу. Это звучит просто, но в кризисах именно доброты часто не хватает. Пары приходят раздражённые, злые, обиженные. И второе — не бояться просить помощи. Не страшно быть слабыми, неидеальными. Важно обращаться к специалисту, пока есть ресурс сохранить отношения.